«3 марта исполнилось 90 лет со дня рождения литературоведа Анны Александровны Саакянц, вместе с А.С. Эфрон стоявшей у истоков возвращения творческого наследия Марины Цветаевой читателям нашей страны. Тогда не было ни музеев, ни международных научных конференций цветаеведов, ни памятников, ни собраний сочинений, а публикация отдельных произведений считалась чуть ли не чудом. Анна Саакянц выполнила предназначенную ей миссию».
/Владимир Енишерлов, главный редактор журнала «Наше наследие»/
Анна Саакянц.
О Марине Цветаевой.
Тайный жар
Один писатель сказал: «Понять поэта — значит понять его любовь». Если мы хотим понять Марину Цветаеву, — мы не найдем более верного ключа к ее поэзии и личности. Сейчас Цветаеву у нас все больше начинают узнавать и любить.
Многообразен и неисчерпаем ее страстный, стремительный, трагический дар. А был это один человек, одна женщина-поэт, с одним раз и навсегда вложенным в грудь сердцем. «Просто сердце» — так хотела Цветаева назвать свою книгу стихов. А в последний год жизни писала: «Ничто не льстит моему самолюбию (у меня его нету!), и все льстит моему сердцу (оно у меня — есть: только оно и есть!)»*.
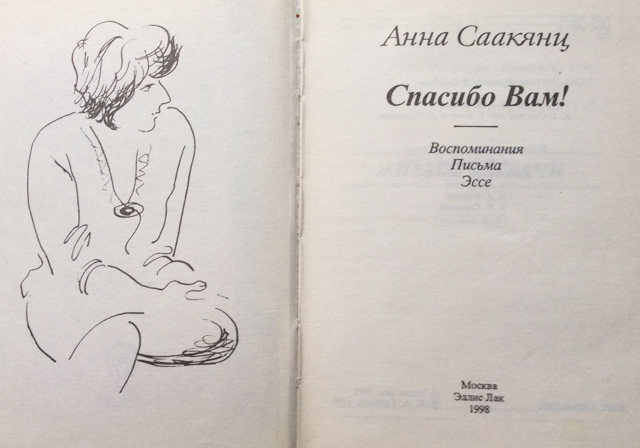
Сначала это была девочка (она родилась в 1892 году), росшая в семье московского профессора Ивана Владимировича Цветаева, основателя Музея изящных (ныне — изобразительных) искусств, человека необычайной доброты, отрешенности и подвижнического труда. Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке был буквально залит музыкой, льющейся из-под пальцев Марии Александровны, жены Ивана Владимировича, изумительной пианистки, скончавшейся от чахотки, когда ее дочери Марине не исполнилось и четырнадцати. Страсть к труду Цветаева унаследовала от отца, музыку (претворенную впоследствии в стихи) — от матери.

И еще, очень рано она ощутила в себе некий, говоря словами Блока, «тайный жар», «сокрытый двигатель» жизни и назвала его: любовь. Этим словом «заразил» ее Пушкин, когда она тайком от родителей читала его «Цыган». «Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь, — любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это — любовь». Сколько лет ей было тогда? Шесть, в крайнем случае — семь. Но жар в груди уже пылал. «Тайный жар и есть — жить», — скажет она позднее. И даже в предсмертной записке не обойдется без слова «любить»…
В семнадцать лет она найдет слова, чтобы передать этот сжигающий ее огонь:
Я жажду сразу всех дорог!
Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой,
Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень…
Чтоб был легендой — день вчерашний,
Чтоб был безумьем — каждый день!..
Она не преувеличивала, говоря, что начала любить, когда глаза открыла. Сначала — свое детство; городок Тарусу на Оке, где жила летом; «домики старой Москвы»; «книги в красном переплете»; свое имя: «Морское оно, морское!»; Германию — родину великих поэтов-романтиков: «Германия, мое безумье! Германия, моя любовь!» (Позже с великолепной непререкаемостью она запишет в дневнике: «Женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в ту минуту, когда входит ее возлюбленный, любит только Генриха Гейне».) Неможная несбыточная любовь-разлука к умершим или даже никогда не существовавшим: Орфею, Гете, Татьяне Лариной из «Евгения Онегина». Для нее же они были одинаково живыми — всю ее жизнь.
Простившись с детством, выросши в личность и в зрелого поэта, она рассталась с сумбуром и наивностью первых увлечений. Теперь в стихах она обращается к собратьям по «святому ремеслу» — Поэзии, ко многим из которых через всю жизнь проносит почти благоговейную любовь. «Вседержитель моей души!» — писала она Блоку. «Ты солнце в выси мне застишь!» — Ахматовой.

Она влюблена в свою родную Москву и славит ее, «дарит» ее петербургскому любимому «собрату»: Из рук моих — нерукотворный град Прими, мой странный, мой прекрасный брат…Она растит обожаемому дочь и воспевает эту радость, обращаясь к арсеналу русской народной речи: «Породила доченьку — // Синие оченьки, // Горлинку — голосом, // Солнышко — волосом. // …На горе — деvвицам, // На горе — молодцам».
Тайный жар ни на минуту не давал ей пребывать в безмятежности, — это означало бы равнодушие, которого она никогда не знала сама и не прощала никому. Даже Чехову, считала она (ошибочно!), не хватило именно НЕравнодушия: «любви к высшим ценностям и ненависти — к низшим». Потому что для Цветаевой гнев и негодование были неизбежной оборотной стороной любви. Потому что любовь была для нее действенным, активным чувством. «Любовь — прежде всего — делать дело», — не уставала повторять она.
Ее «рожденным состоянием поэта» было стремление защитить. Прийти на помощь. И (безудержность ее границ не знала) — слепо, не рассуждая, стать на сторону обреченного. …Победителей не судят? Цветаева только их и судила, иногда совсем не тех, кого нужно. Но таков был ее романтизм, который не раз приводил к роковым ошибкам. Осуждать ее — значит отказать ей в праве быть тем, чем она была. К тому же она сама горше всех страдала от своих ошибок и расплачивалась за них самой дорогой ценой…
Как поэт она непрерывно росла и менялась — до неузнаваемости. Ее романтический дар был поразительно многолик. Это чудо первый понял в ней, еще девятнадцатилетней, М.А.Волошин: он считал, что ее избытка хватило бы на несколько поэтов, и каждый был бы оригинален. Она все могла: от народных русских сказок-поэм до интимнейшей лирики.
Обронил орел залетный — перышко.
Родился на свет Егорий-свет-Егорушка.
Ликом — светлый, телом — крепкий,
Грудью — емкий, криком — громкий.
Обоймет — задушит,
Десять мамок сушит.
Это — начало поэмы о герое русского народного эпоса, Егории Храбром. А вот любовное стихотворение того же, 1920 года:
Да, друг невиданный, неслыханный
С тобой. — Фонарик потуши!
Я знаю все ходы и выходы
В тюремной крепости души.
Вся стража — розами увенчана:
Слепая, шалая толпа!
— Всех ослепила — ибо женщина,
Все вижу — ибо я слепа.
Закрой глаза и не оспаривай
Руки в руке. — Упал засов. —
Нет — то не туча и не зарево!
То конь мой, ждущий седоков!
Мужайся: я твой щит и мужество!
Я — страсть твоя, как в оны дни!
А если голова закружится,
На небо звездное взгляни!
А вот как, всего годом позже, говорит она о бренности земной любви и о своей приверженности к высшим, «надоблачным» дружбам (иронически назвав стихотворение «Хвала Афродите»):
Блаженны дочерей твоих, Земля,
Бросавшие для боя и для бега.
Блаженны — в Елисейские поля
Вступившие, не обольстившись негой.
Так лавр растет, жестоколист и трезв, —
Лавр-летописец, горячитель боя.
— Содружества заоблачный отвес
Не променяю на юдоль любови.
Этой магией торжественного, архаического стиля она владела в совершенстве и достигала огромной силы впечатления:
Огнепоклонник! Красная масть!
Завороженный и ворожащий!
Как годовалый — в красную пасть
Льва, в пурпуровую кипь, в чащу —
Око и бровь! Перст и ладонь!
В самый огонь! В самый огонь!
Вся эта словесная роскошь понабилась для того, чтобы передать состояние молодого поэта, зачарованно глядящего в огонь печки-«буржуйки»… Этому человеку в трудный год Цветаева дала приют в своем доме. Кстати: о щедрости ее сердца, о бескорыстии ее дружб можно написать книгу. Она была из тех, кто безоглядно делится последним. Как же выглядела Марина Ивановна Цветаева в ту пору?
Ее дочь вспоминает: «Она была небольшого роста, очень тонкая, казалась подростком, девочкой мальчишеского склада… стройная… шаги стремительные легкие мальчишечьи. В ней была грация, ласковость, лукавство… Легкая она была… Всю жизнь подтянутая, аккуратная… она носила платьица, являвшие тонкость талии и стройность фигуры… Глаза у мамы были без малейшей серизны, ярко-светло-зеленые, как крыжовник или виноград (их цвет не менялся и не тускнел всю жизнь)».
С годами ее внешность изменялась гораздо медленнее, чем ее стихи; только волосы начали рано седеть, что нравилось ей: «Эта седость — победа бессмертных сил».
Ранняя седина говорила и о другом: о тяжелых переживаниях и неразрешимых противоречиях, о метаниях и страданиях. В мае 1922 года Цветаева уехала за границу к мужу, заброшенному туда сложными перипетиями судьбы, и семнадцать лет прожила на чужбине: сначала (недолго) — в Берлине, затем в Чехословакии (три года), остальные четырнадцать — во Франции.
И — словно по волшебству: как только она оказалась по ту сторону границы, ее стихи словно ушли в подполье, а сама она — «в себя, в единоличье чувств».
Теперь жар своего сердца Цветаева прячет в самую глубь — от непонимающих мозгов, глухих ушей, невидящих глаз. «Читателя в эмиграции нет… Моя неудача в эмиграции… в полном отсутствии любящих мои стихи».
Остров есть. Толчком подземным
Выхвачен у Нереид.
Девственник. Еще никем не
Выслежен и не открыт…
Час, а может быть — неделя
Плаванья (упрусь — так год!)
Знаю лишь: еще нигде не
Числится, кроме широт
Будущего…
Остров — это непонятный и одинокий, заточенный в людскую «пустошь» поэт. Когда-нибудь (непременно!) его час пробьет. А пока он должен делать свое посмертное дело:«Нет, надо писать стихи, и нельзя дать ни жизни, ни эмиграции… ни всем и так-далеям этого торжества: заставить поэта обойтись без стихов…».
И она упорно, подвижнически трудилась — несмотря на постоянно отвлекающий неизбывный нищий быт, когда все: и топка, и стирка, и готовка, и занятия с детьми — лежало на ней. Но быт побеждался бытием. Она была влюблена в работу над словом, в эту борьбу с ним, в поиски (часто — очень долгие) единственно точного эпитета, в улавливание единственно верного ритма. «Есть священный инстинкт… оберегающий нас от доверия к слишком легко давшемуся. Стихотворение, написанное в десять минут, всегда подозрительно».

Она никогда не подделывалась под вкусы читателей и издателей. Любое ее произведение — от вершинного до неудавшегося (и такие были) — подчинено только правде сердца. Офелия и Гамлет, Тезей и Ариадна, Федра и Ипполит — с ними она общалась, как с живыми, любила их, судила их, вливала в них огонь своей души.

Десятки лирических стихотворений, две трагедии, более десяти поэм. И около полусотни произведений в прозе: воспоминаний о детстве, о семье, о современниках-поэтах, трактатов о поэзии. Можно только поражаться неугасимости этого творческого горения…
Но разве не удивительно, что при таком одиночестве не охладевал «тайный жар»?
В том-то и было свойство Марины Цветаевой, что всю жизнь она искала человека; с неослабевающей пылкостью тянулась к людям, загоралась ими, переживая вспышку всякий раз заново. Особенно, если кто-нибудь окликал ее первым и, значит (как ей казалось), понимал ее, то есть обладал душевным талантом. Степень ее доверчивости и способности обольщаться была равна только ее непомерной требовательности. Да, именно эти два противоположных свойства не только уживались в ней, но и питали друг друга. Увлекшись человеком, а потом обнаружив свою ошибку, она не прощала ему его обыкновенности, заурядности чувств. По словам ее дочери, она «требовала от человеческих отношений абсолютной стабильности — на недосягаемой для них высоте… Воздух ее чувств был и раскален и разрежен, она не понимала, что дышать им нельзя — только раз хлебнуть!.. Не понимала человеческого утомления от высот; у людей от нее делалась горная болезнь».

А зато из этого душевного костра вырастали стихи и поэмы, которые пережили и события, и адресатов и которые ныне помогают нам, сегодняшним.
Она сама понимала, что для многих она просто непосильна. Но снисходить к слабостям не умела. Да и нужно ли это было? Разве она не права, когда пишет молодому поэту, в которого сперва поверила, а потом очень быстро обнаружила, что «донышко блестит»: «Дружба и снисхождение, только жаление — унижение… Мне самой нужен высший или по крайней мере равный. О каком равенстве говорю? Есть только одно — равенство усилия. Мне совершенно все равно, сколько Вы можете поднять, мне важно — сколько Вы можете напрячься. Усилие и есть хотение. И если в Вас этого хотения нет, нам нечего с Вами делать». Но были и величины неизменные — люди, в которых она не разочаровалась, которых считала равными себе по силе. Маяковский, «первый в мире поэт масс» (ее слова), которого она любила, невзирая на резкую противоположность их взглядов. Пастернак, горячая эпистолярная дружба с которым длилась многие годы. Австрийский поэт Рильке, с которым был четырехмесячный «роман» в письмах (они никогда не виделись)… И еще никогда не изменяло Цветаевой возникшее в далекой юности нежное и благоговейное отношение к романтизированным ею «старинным» людям, живому олицетворению прошлого — к благородным старикам. И вот снова, на чужбине, сквозь годы и версты обращается она к ним — к отцам, к тем, кто составлял гордость русской культуры — к таким, каким был ее собственный отец, скромный и великий подвижник, — к «поколенью с сиренью»:
Поколенье, где краше
Был — кто жарче страдал!
Поколенье! Я — ваша.
Продолженье зеркал.
Ваша — сутью и статью,
И почтеньем к уму,
И презрением к платью
Плоти — временному!
Вы — ребенку, поэтом
Обреченному быть,
Кроме звонкой монеты
Всё — внушившие — чтить!..
Вам, в одном небывалом
Умудрившимся — быть,
Вам, средь шумного бала
Так умевшим — любить!
До последнего часа
Обращенным к звезде,
Уходящая раса,
Спасибо тебе!
Эти «отцы» ничего общего не имели с увядающим русским зарубежьем, что не выносило Цветаеву. «Эмиграция, не приняв меня в свое лоно, права. Она, как слабое издыхающее животное, почуяла во мне врага». Но то, что ее поэзия не принималась и не прививалась на чужбине, не имело для Цветаевой значения.
Она знала другое:
Не нужен твой стих —
Как бабушкин сон.
— А мы для иных
Сновидим времен.
Докучен твой стих —
Как дедушкин вздох.
— А мы для иных
Дозорим эпох.
. . . . . . . . . . . .
А быть или нет
Стихам на Руси —
Потоки спроси.
Потомков спроси.
Что может быть сильнее такого объяснения в любви поэта — Родине? «В ком она внутри, тот потеряет ее лишь вместе с жизнью», — утверждала Цветаева. Это родиночувствие (ее слово), дававшее ей сил жить и творить, было наивысшим выражением любви — разлуки…
Перед отъездом в СССР (куда уже уехали муж и дочь, а она приводила в порядок дела) Цветаева пережила сильнейшее потрясение: она узнала о нападении гитлеровцев на Чехословакию. Гнев, ярость и одновременно боль и любовь к маленькой страдающей стране вызвали лавину страстных антифашистских «Стихов к Чехии». Они кончаются горячим обращением к чешскому народу: «Процветай, народ, // Твердый, как скрижаль, // Жаркий, как гранат, // Чистый, как хрусталь!»
Эти строки написаны в мае 1939 года. А через три недели, 12 июня, Марина Ивановна Цветаева уехала в СССР.
Ей оставалось прожить немногим более двух лет. 31 августа 1941 года она сама оборвала свою жизнь. Дело будущего — рассказать обо всем объективно и беспристрастно. Но она была права, когда, уезжая из Франции на Родину, писала: «Стихам моим — всегда будет хорошо».
******
Примечания:
* Тексты Марины Цветаевой и ее дочери А.Эфрон, выделенные курсивом, публиковались в этой статье впервые.
******
Автор: Анна Саакянц. Опубликовано в журнале «Наше Наследие» № 122 2017
Дополнительные материалы:
Присоединиться к нам на FB
Оказать помощь проекту любой суммой
Архив:
http://muzeemania.ru/2019/09/09/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3/
Лекция Елены Ильиной «Русская оперная певица Варвара Дмитриевна Иловайская, жена Ивана Цветаева»
http://muzeemania.ru/2019/09/07/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80/




