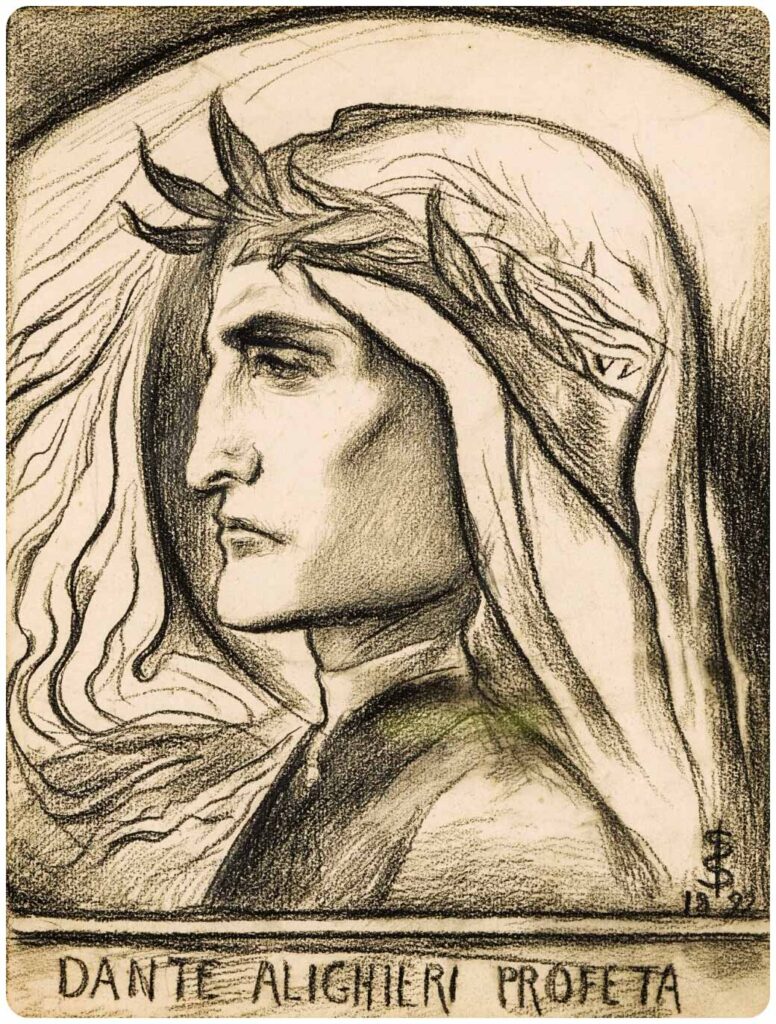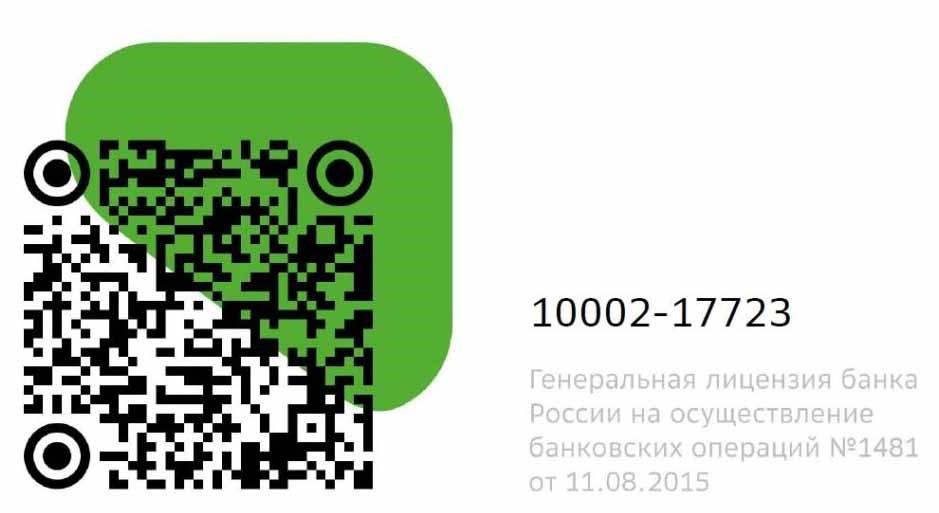Борис Зайцев: Перевод песни Пятой Ада Данте
Осенью 1913 года, в Москве, мой друг Муратов[1] предложил мне однажды заняться Данте: пусть я буду переводить «Божественную Комедию» ритмическою прозой, строка в строку, колонною как в подлиннике, а он напишет вводную статью и комментарий.

Данте мы оба любили, полюбили еще с ранних наших странствий по Италии. Удивительного в его предложении не было ничего, скорее всё естественно. Всё-таки пришлось пораздумать. Жутко было. Однако, я согласился, А он быстро нашел издателя, К. Ф. Некрасова[2], племянника поэта, тот издавал книги очень серьезные.
— Стихами, терцинами выйдет по-русски плохо, говорил Муратов. — Надо ближе к тексту и стараться сохранять ритм, сколько возможно, конечно.
У меня был перевод Мина[3], в трех томах, с комментариями, труд целой его жизни (он переводил двадцать пять лет, все три части «Божественной Комедии»). Перевод этот считался лучшим, достоинства его бесспорны, но бесспорна и такая тяжесть, темнота, громоздкость славянизмов, что иногда русское непонятнее итальянского: чтобы вышла терцина, ему приходилось проделывать головоломные вещи.
Я решил быть проще, точнее, естественней. Ямб и терцины пропадают, остается неопределимый, все же ритм и дантовская первозданность.
Появились словари, большой комментарий Скартаццини[4], необъятный Краус[5]. На утлой своей лодченке выплыл я чуть ли не в океан. Плавание началось. А житейское море, по которому тоже свершался путь, независимо ни от каких Данте, было накануне великих бурь.
Весной 1914 года люди понимающие уже чувствовали нечто. Я занимался литературой, от политики был далек, внутренне находился в некоем смятении, но не знал отчего. Писал свое, начал переводить «Ад» и до конца июля вообще ничего не видел.
Но наконец увидел — теперь не увидеть уж нельзя было. По деревням выли бабы, провожая мужей, сыновей на войну. Поезда шли на запад с войсками. Газеты полны наступлениями, атаками и отходами.
В Москву на зиму, как обычно, ехать теперь не пришлось. Мы остались в Тульском именьице отца: я, жена, маленькая дочь.
Из Москвы в мой флигель переехали все Скартаццини, Бианки, Краусы, словари, как и все современные мои книги. Получилось вроде библиотеки. А на столе стоял бронзовый, зеленоватый Данте, подарок соседки помещицы. Неведомыми путями забрел он к ней в глушь каширскую, долго жил в доме в двух верстах от нас, где понятия о нем не имели (получен был по наследству) — украшал, кажется, старинные часы. Но теперь водворился в подходящее место. С края моего письменного стола бесстрастно-задумчиво глядел он, как у его подножия, черкая и переделывая, мучась иногда день над строкой, выводил некий писатель что-нибудь вроде такого:
«Я увидел над вратами более тысячи
Тех, что дождем скатились с неба; они злобно
Говорили: «Кто этот, что не умер,
Но проходит через царство мертвых?»
Удивительно был равнодушен бронзовый обитатель флигеля. Вокруг него шла жизнь в бурях и трагедиях. Месяцы проходили, зимой в стареньком флигеле было холодновато, приходилось работать в валенках, теплой одежде. Выли ветры, метели заносили подъезд так, что приходилось прокапывать к нему траншеи. В день одолевал я двадцать, тридцать строк.
А в пространствах России в это время армии наступали и отступали, люди умирали и мучились, старая и великая Империя трещала, охала, как мой ветхий домик. Как ему, ей подходил конец.
В этом же флигеле встретил я революцию, за тем же Данте.
Долго отсиживались мы в окопах, теряя близких, страдая, видя торжество страшной силы, постоянно слыша об убийствах, злодеяниях, насилиях.
Данте смотрел отдаленным бронзовым взором.
— Все это мне известно. Всё не ново. Всегда были войны, всегда гражданские распри. Сам на себе испытал я это, шестьсот лет назад. Умер вдали от родины, но вот продолжаю жить и ты, скифский писатель, у моего подножия продолжаешь искать нужных тебе созвучий, когда убивают последнего Императора твоей страны, вместе со всею его семьей. Всё это было, всё это и будет.
Не помню, какую именно песнь «Ада» я переводил, когда дошла летом весть об убийстве Государя. Но думаю, песнь была из последних. Их было много. На одной убили моего племянника, на другой пасынка. Но «Ад» хоть и медленно, а подвигался.
В 1920 году, перед Рождеством, пришлось спешно отступать в Москву — в деревне удержаться было уже невозможно. Рукопись ушла со мной в столицу, чтоб сопровождать в дальнейшем. Данте же на столе и остался, как и книги на полках — ничего этого больше я уже не увидел («твоим Пушкиным будут подтапливать плиту, а страницы Данте и Соловьева уйдут на кручение цыгарок» — так я сам когда-то предсказал себе).
От издательства Некрасова тоже следа не сохранилось. Муратов попал на войну, ему было не до Данте. Ни статьи, ни комментариев он не написал. За полтора года, что мне предстояло еще провести на родине, вступительную статью написал я сам, а комментарии взял главнейше у Скартаццини.
Первой пришла мне в Москву виза из Италии. В 1922 г. «Ад» находился уже в Германии, у моего давнего издателя и друга Гржебина[6]. В Италию еще не так скоро пришлось попасть, но в Берлине мы были уже в тоже лето, тогда-же я стал получать корректуры своих книг, выходивших у Гржебина. Последним, седьмым томом предполагался «Ад».
Время шло, томы появлялись. Пришла пробная страничка «Ада». Оказалась она, однако, и последней. Издательство прекратилось.
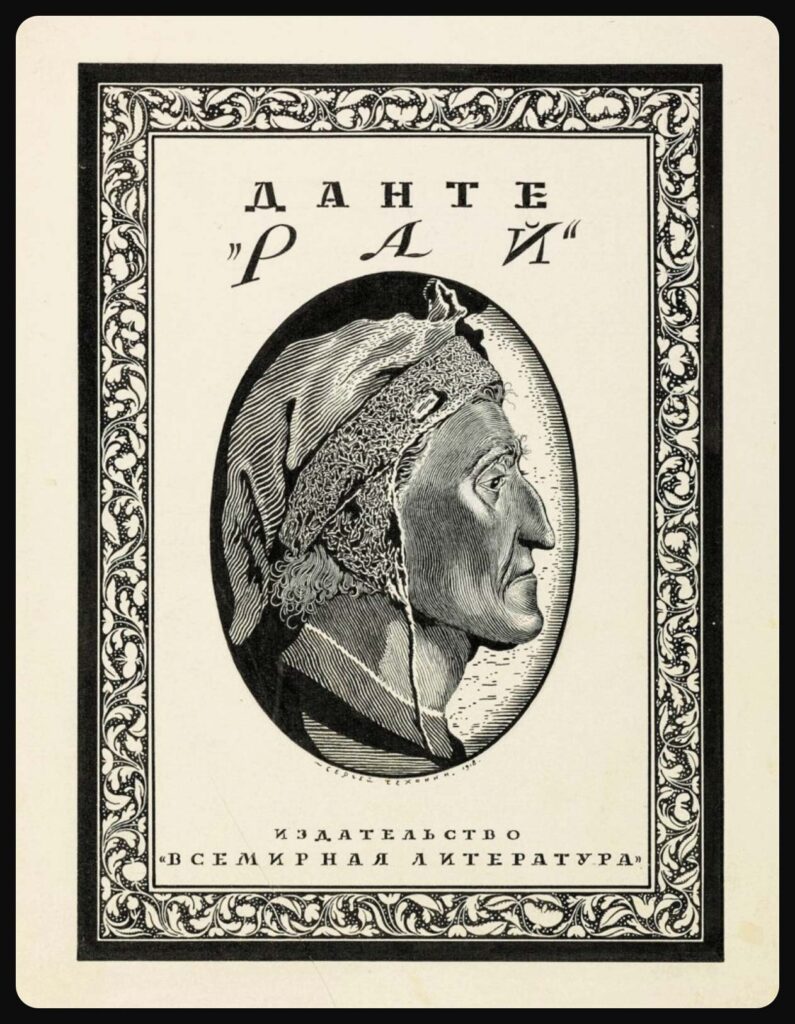
Рукопись же побывала со мной в Италии, водворилась в Париже. Вместо бронзового на меня стал смотреть со стены Данте Рафаэля, в красном головном уборе и лавровом венке — деталь ватиканской фрески. А годы продолжали идти. Жизнь складывалась по ей данным законам. В третий раз «Ад» должен был появиться в печати, опять некая рука отвела. Со стены же всё смотрел, выделяясь горбатым носом, могучим подбородком, первый эмигрант христианской Европы, неизменный патрон изгнанников.
Его не удивишь ветхой рукописью. Некогда с подлинником ее в мешке за спиною пробирался он тропинками в горах Казентина, где-нибудь вблизи Поппи или Биббиены. Утреннюю зарю видел с высот Пратсманьо и долину Флоренции — если б туда возвратился, был бы «сожжен огнем, так, чтобы умер (igne comburatur sic quod moriatur)». Но пронес рукопись через все бедствия, стал славой родины и покровителем бездомных.
Он явился в моей жизни еще раз во времена, о которых не приходилось думать раньше.
Если молятся об избавлении от «голода, мора и нашествия иноплеменных», то слова эти кажутся из других веков. А вот случается и в наше время, Парижу, «люмьеру» мира, пришлось на себе это испытать.
Иноплеменные отлично себе вторглись, завладели им, даже целой страной, правили и жители стали вдруг эмигрантами в собственной стране, вроде нас.
Мы многое уже в жизни видели, нас удивить нелегко, всё-таки удивляться приходилось.
Казалось, войн на наш век достаточно, но пришла и еще война, и чужое войско, и глад. Мор можно было заменить хладом. Страшные две зимы в Париже — 41-го, 42-го года. Редкостные по холоду, при жалком топливе. На родине, в революцию, мы не такое еще видели. Всё-же в Париже, питаясь рютабагой[7] и картофелем, потеряв по десятку кило, греясь у скромных печурок, мы походили на дантовские Тени. И когда ранним зимним утром, еще во тьме, стояли на улице в хвосте к молоку, ожидая открытия лавки, то напоминали вереницу грешников — мы были тогда мизераблями[8] адских долин, как мизераблями жались друг к другу в подвалах при бомбардировках.
И вот вновь выступает Данте Алигиери Флорентинец. В 1942 году вновь вынимается рукопись, видевшая Москву и деревню, Берлин и Италию, Париж.
<…Кто этот, что не умер,
«Но проходит через царство мертвых?»
Вот мой ранний почерк, остроугольно-готический, первая страница им написана. Дальше на машинке, потом почерк жены, тоже изменившийся (переписывала она с черновика, не сохранившегося). Самый формат бумаги — огромные листы желтоватого уже цвета, кой-где обтрепанные края, потертая обложка — папка голубого цвета — всюду патина времени. Из всего этого Данте глядел по-прежнему.
И как в глуши России пред бронзовым его изображением, в холоде, бедствиях революции, так пред фреской Рафаэля в городе Париже близ печурки, снова засел я за эту рукопись. Тогда была пшенка, теперь рютабага. Но теперь никакие очереди уже не удивляли. Всё-таки, чтобы увеличить сходство, весь январь лежал снег в Париже, по утрам из моего окна открывался вид на побелевшие крыши, напоминая Москву.
Я занялся вновь сличением текста с подлинником, строка за строкой, и новой отделкой. Дантовской энциклопедии под рукой не было. Не было и того издания Скартаццини, с которого переводил в России. Но у букиниста раздобыл я старое, верное издание Бианки, в отличном переплете с золотым тиснением 40-х годов. Этот Бианки немало над Данте потрудился. Еще с России я ему сочувствовал.
О переводах, переводчиках и комментаторах он сказал хорошо: molta е fatica, роса gloria — плод жизненного наблюдения и, конечно, собственного опыта. Во всяком случае, комментариями своими он мне здесь помог. Главное же, обрабатывая теперь, я старался придавать больше ритма самой речи.
С этим «Адом» прошла вся зима. Летом я кончил просмотр и однажды, в сильную бомбардировку, спускаясь вниз в подвал, захватил и его с собой: теперь всё доделано, жаль оставлять наверху в опасности.
И он увидел адские коридоры в подземелье, всех нас, обитателей, мизераблей, жавшихся по стенам, в то время как наверху бухали взрывы и основы огромного нашего дома содрогались. Мы поистине были похожи на отряд грешников из нижних кругов ада.
И вот, всё-таки, мой «Ад» выжил. Помогая мне переносить жизнь, сам меняясь слегка под моей рукой, он все также лежал, ожидая срока. Придет ли час выйти ему на свет Божий, неизвестно.
Данте умер в 1321 году. Списки «Божественной Комедии» ходили по рукам еще при жизни впрочем, только «Ада» (может быть, и «Чистилища»). Кончив «Рай», просто он умер. Поэма появилась через полтораста лет — да еще надо было, чтобы Гутенберг изобрел книгопечатание. Так что с Данте торопиться не приходится.
Тогда, в 42-м году, мне казалось, что просмотр этот последний. Я ошибся. Верно было то, что, обрабатывая через четверть века, обрабатывал уже другой рукой, чем та, которая писала в 1913-18. Но конца нет, пока есть жизнь. Прошло еще двенадцать лет, и если взяться сейчас за чтение, вновь кое-что изменишь, как меняешься сам, как меняется — с годами понимание и чувства слова. Только Данте не меняется. Он отошел уже в края, где нет движения.
Примечания:
[1] Муратов Павел Павлович (1881 — 1950) — русский писатель и искусствовед, переводчик и издатель.
[2] Некрасов Константин Фёдорович (1873 — 1940) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Ярославской губернии, коллекционер и издатель.
[3] Мин Дмитрий Егорович (1818 — 1885) — русский медик и поэт-переводчик, ординарный профессор и проректор Московского университета, действительный статский советник.
Состоял действительным членом Общества любителей российской словесности с 1858. Из его переводов Данте, частью ранее напечатанных в «Москвитянине», составилась книга: «Ад Данте Алигьери» (с комментариями, М., 1855).
[4] Скартаццини Джованни Андреа (1837 —1901) — швейцарский историк литературы, литературный критик и публицист, по основному роду занятий пастор и преподаватель. Известен как один из крупнейших исследователей «Божественной комедии» Данте и переводчик.
[5] Краус Франц Ксавер (1840 — 1901) — немецкий католический священник, историк церкви и искусства, автор «Dante. Sein Leben und sein Werk. Sein Verhältniss zur Kunst und Politik» (Берлин, 1897)
[6] Гржебин Зиновий Исаевич (1877 — 1929) — русский издатель, внёсший значительный вклад в развитие литературы Серебряного века и книгопечатание начала XX века в России.
[7] Рютабага — брюква или другое название «шведская репа».
[8] Мизерабль – приверженец мизераблизма – направления, сложившегося в изобразительном искусстве Франции, представители которого подчеркивали трагическую обреченность, «покинутость» человека в мире; своего рода изобразительная параллель к философии экзистенциализма.
***
Песнь пятая
Второй круг: грехи плоти.
Минос. Франческа да Римини.
1. Так спустился я из первого круга
Вниз во второй, заключающий менее места
И столь-же более горя, жалящего до воплей.
4. Там сидит страшный Минос, оскаливая зубы.
Он исследует вину всякого входящего,
Судит его и направляет извивами своего хвоста
7. Я говорю, что когда обреченная душа
Является пред ним, то исповедает всё;
И этот знаток всяческих прегрешений
10. Видит, какое место Ада ей прилично:
Он обвивает себя хвостом столько раз,
На сколько кругов вниз желает ее спустить.
13. Всегда томятся перед ним те души:
Они идут поочередно на его суд;
Говорят, выслушивают и направляются вниз.
16. «О ты, пришедший в скорбное убежище»,
Вскричал Минос, увидев меня близко,
И прерывая исполнение своего дела,
19. «Взгляни, куда ты входишь и кому вверяешься:
Пусть не обманывает тебя ширина входа».
И мой Вождь ему: «Зачем-же ты кричишь?
Не преграждай назначенного ему пути:
Так хотят там, где могут всё,
Что пожелают; и более не спрашивай».
25. Теперь начали до меня доноситься
Скорбные звуки; теперь оказался я там,
Где великие стенания потрясли меня.
28. Я пришел в область немую к свету,
Где слышен рев, как на бушующем море,
Потрясаемом встречными ветрами.
31. Адский вихрь, никогда не утихающий,
Влечет души в своем неистовстве,
И кружа, сталкивая, терзает.
34. Когда подлетают они к выступам скалы,
Там слышен визг, жалобы и стоны.
Там-же хулят они божественное правосудие:
37. Я узнал, что на подобное мучение
Были осуждены грешники плоти,
Которые подчиняли разум свой желаниям.
40. И как скворцы уносятся на своих крыльях
В холодное время, огромной и густой стаей:
Так стремит этот ветер дурные души:
43. Туда, сюда, вниз, вверх мечет он их;
Не поддерживает их малейшая надежда
На остановку или на уменьшение кары.
46. И как плывут со стонами журавли,
Вытянувшись в воздух длинною нитью,
Так, видел я, пролетали с воплями
49. Тени, несомые описанным шквалом.
И я сказал: «Учитель, кто-же эти
Люди, столь караемые черным воздухом?»
52. «Первая из тех, узнать о коих
Ты желаешь», сказал он мне тогда,
«Была властительницей многочисленных народов.
55. Столь предавалась она пороку сладострастия,
Что дозволяла всякое желание в своих законах,
Дабы снять осуждение, в коем жила сама.
58. Это Семирамида, о которой известно,
Что она наследовала Нину и была его женой;
Она владела страной, принадлежащею теперь Султану.
61. Другая та, что от любви покончила с собой
И не соблюла верности праху Сихея:
Далее сладострастная Клеопатра».
64. Я увидел Елену, из за коей протекло
Столько горестного времени, и великого Ахилла,
Сразившегося под конец с Любовью.
67. Я увидел Париса, Тристана, и более тысячи
Теней указал он пальцем, называя поименно,
И всё это были похищенные Любовью.
70. Когда услышал я от Учителя имена
Стольких жен и героев древности,
Жалость овладела мной и я смутился:7
3. Я начал так: «Поэт, охотно
Поговорил бы я с теми, что несутся вместе,
И для ветра кажутся столь легкими».
76. И он: «Дождись, когда они подлетят
К нам ближе и тогда попроси
Именем любви, влекущей их; и они явятся».
79. И лишь только ветр склонил их к нам,
Я возвысил голос: «О, мучимые души,
Поговорите с нами, если нет к тому препятствий».
82. Как голуби, влекомые желанием,
Летят по воздуху на крепких, распростертых крыльях
К сладостному гнезду; так две души
85. Отьединилися от ряда, где была Дидона
И устремились к нам по горестному воздуху:
Столь силен был мой страстный призыв
88. «О существо изящное и благосклонное,
Идущее в багровом воздухе навестить
Нас, окрасивших мир кровью;
91. Если-бы Царь вселенной был нам другом,
Мы просили-бы его о мире для тебя,
Ибо ты сжалился над нашей неестественною мукой.
94. О чем ты пожелаешь слушать или говорить,
Мы будем слушать или будем говорить,
Доколе ветер, как сейчас, смолкнул.
97. Город, где я родилась, лежит
У моря, куда По нисходит, дабы
Упокоиться с притоками своими.
100. Любовь, легко воспламеняющая нежное сердце,
Овладела Паоло, который полюбил мою красу,
Отнятую у меня способом, оскорбляющим и поныне
103. Любовь, никому любимому любви не прощающая,
Охватила и меня с такою силой,
Что, как видишь, и теперь не покидает.
106. Любовь и привела нас к общей смерти,
Кайна ожидает нашего убийцу.
— Такие то слова направили они к нам.
109. Когда я выслушал эти обиженные души,
То наклонил лицо и не подымал его,
Пока поэт не произнес: «О чем ты думаешь?»
112. Ответивши ему, я начал: «О, горе,
Сколь сладкие мечты и какие желания
Привели их к этому горестному шагу».
115. Затем я снова повернулся к ним
И начал: «Франческа, твои мучения
Вызывают у меня слезы жалости и печали.
118. Но скажи: во время сладких вздохов
Чем и как дозволила вам Любовь
Увериться в ваших смутных желаниях?»
121. И она мне: «Нет большей муки,
Чем вспоминать о временах блаженства
В несчастья; и об этом знает твой Учитель.
124. Но если ты так расположен слышать
О первом появлении нашей любви,
Я сделаю как тот, Кто говорит и плачет.
127. Однажды мы читали, чтоб развлечься,
О Ланчелоте, как теснила его любовь:
Одни мы были, ничего не опасаясь.
130. Не раз соединяло наши взоры
Чтение это и мы бледнели.
Но лишь одна строка нас победила.
133. Когда мы прочитали, что ее улыбающиеся уста
Приняли поцелуй того возлюбленного,
Тогда этот, что теперь со мною неразлучен
136. Поцеловал мои уста и весь затрепетал.
Галеоттом стала для нас книга и написавший ее:
В тот день мы больше не читали».
139. Пока один из духов говорил это,
Другой так плакал, что от жалости
Я оказался как бы на границе смерти.
142. И я упал, как падает поверженный.
Примечания:
4. Минос, древний мифологический царь Крита, по Гомеру сын Зевса и Европы. Так как, по мифологии, он был одним из первых законодателей человечества и правил с величайшей мудростью, то поэты обратили его в судью Ада. (Вергилий «Энеида», VI). В «Божественной Комедии» Минос тоже адский судья, но Данте обращает его в демона, согласно средневековой вере, основанной на словах Ап. Павла («…язычники принося жертвы, приносят бесам, а не Богу». 1 Посл, к Коринф., X, 20).
6. Направляет в такой круг, сколько раз обовьет себе спину хвостом. 61-62. Дидона. Она обещала мужу своему, Сихею, что после его смерти останется одинокой. Но отдалась Энею.
65. Ахилл, собиравшийся жениться на Поликсене, был убит стрелою Париса, ее брата во время свадебного пира.
67. Парис — сын Приама и похититель Елены. Другие считают его за странствующего рыцаря средневековья, прославленного в старинных романах. — Тристан, рыцарь круглого стола; племянник короля Марко Корнуэльского; трагически любил жену его, Изольду (Изотту).
74. Это Франческа Малатеста (Франческа да Римини) и ее деверь Паоло — знаменитая чета несчастных любовников, прославленная Данте. Приводим рассказ о судьбе их по Анонимо Фиорентино: «Надо сказать, что уже долгое время шла война между мессером Гвидо да Полента и мессером Малатеста старшим из Римини. Так как это утомило обе стороны, то с общего согласия заключили мир, и чтобы лучше он соблюдался, вступили в родство; ибо мессер Гвидо выдал дочь за сына мессера Малатеста, а мессер Малатеста так-же обвенчал своих детей. Мадонна Франческа, дочь мессера Гвидо вышла замуж за Джианчиотто мессера Малатесты; и хотя он был умный человек, но вида грубого, мадонна-же Франческа была прекрасна, так что мессеру Гвидо говорили: «Вы дурно устраиваете эту вашу дочь; она прекрасна и редкой души; она не будет довольна Джианчиотто». Мессер Гвидо, который больше ценил разум, чем красоту, все таки пожелал, чтобы родство укрепилось: и дабы девушка не отказалась от брака, сделал так, что вместо Джианчиотто явился в виде жениха Паоло, его брат. И вот, думая, что мужем ее будет Паоло, она вышла за Джианчиотто. Правда, что перед свадьбой, когда Паоло находился однажды на дворе, служанка мадонны Франчески показала ей его и сказала: «Этот будет твоим мужем». Она нашла, что он красив; полюбила и согласилась. И отправившись к мужу, и найдя вечером рядом с собой Джианчиотто, а не Паоло, как она думала, осталась недовольна. Она увидела, что ее обманули; но не отказалась от любви, которую питала к Паоло. Паоло-же, видя, что она его любит, хотя вначале и противился, легко склонился к любви. Случилось, что в то время, как они любили друг друга.. Джианчиото отправился в Синьорию, от чего у них возрасла надежда; и любовь возрасла настолько, что находясь тайно в комнате и читая книгу Ланчелота — и сначала рукою, и поцелуями приглашая друг друга, в конце умиротворили они свои желания. И много раз в разное время делали подобное; это заметил слуга Джианчиотто; он написал своему господину; по этой причине Джианчиотто вернулся и подстерегши их однажды, застал в комнате, имевшей выход вниз; и отлично мог бы Паоло спастись, если бы кольчуга его не зацепилась за гвоздь в опускной двери, и он повис таким образом. Джианчиотто бросился на него с копьем; жена кинулась между ними; направляя удар в него, он попал в жену и убил ее; и затем убил Паоло на том самом месте, где тот зацепился».
82. «Голубь — птица очень сладострастная, но в то же время символ невинности. Данте почитает историю двух любивших сколь может. Возможно, он сравнивает их с голубями также и потому, что голубь есть символ чистосердечия (Матф., X, 16), добродетели, которую Франческа проявляет в последующем рассказе в величайшей степени». (Скартаццини).
97. Равенна.
107. Кайна — адский лог, где караются братоубийцы; песнь XXXII.
117. «Суровый Дант», путник и временами даже сам каратель грешников, что вряд ли бы отозвался на горе влюбленных человек, лично не испытавши бурь любви.
121. Знаменитые слова, непередаваемого обаяния по итальянски:
…“Nessim maggior dolore,
Che ricordarsi del tempo f el ice,
Nella miseria”.
128. Ланчелот — любовник королевы Джиневры, герой Круглого Стола. Романы короля Артура и Круглого Стола были модны во времена Данте, и в <De vulgari eloquentias» он утверждает, что читал их.
137. «Галеотто». — Как Галеотто был посредником между Ланчелоттом и Джиневрой, так и для нас книга и сам автор ее». ( Скартаццини).
142. Вновь Данте не выдерживает. Здесь Анонимо Фиорентино прямо говорит: «Поэт сам был уязвлен этим пороком и потому так сочувствует тем, о ком говорит в тексте». Замечательно, что и Вергилий, всюду на протяжении странствия спокойный и благоразумный, как и подобает представителю Разума, не упрекает здесь Данте в слабости, как делает это в других местах. (Ведь сочувствуя осужденным, Данте по тогдашним понятиям сам грешит). — Вообще-же вся эта песнь есть как бы отголосок молодости поэта, времени, когда он не был еще политиком, приором, изгнанником. Правда, проскальзывает эта нота у человека, уже много пережившего, знающего цену воспоминаний; всё-же здесь перед нами по преимуществу поэт любви, а не теолог, моралист или политик.
Присоединиться к нам на Facebook или Instagram
Станьте ДОНАТОМ проекта. Сделайте добровольное перечисление в размере 100 рублей для развития журнала об искусстве.
Наведите камеру смартфона на QR-код, введите сумму и произведите оплату.
При согласии ваша фамилия, как благотворителя, появится в разделе: «Донаты»